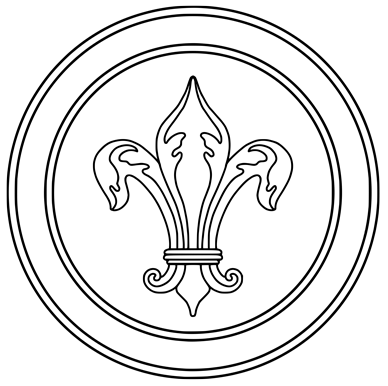[К вопросу о переложениях церковных роспевов для хора / И. Гарднер // Православный путь. – 1976. – С. 41-54. –
Ранее напечатано в журнале Воскресное чтение и отдельной брошюрой в 1932 г.]
Мы говорили уже о полифоническомъ пѣніи въ Православной Церкви и сдѣлали, быть можетъ покажется многимъ, даже черезчуръ строгую оцѣнку этого пѣнія. Да, ставъ на чисто аскетическую точку зрѣнія, оно такъ и слѣдуетъ. Но подобно тому, какъ дѣлалось въ древности снисхожденіе для городскихъ храмовъ, сдѣлаемъ и мы снисхожденіе къ собственной нашей слабости. Но оговоримся: это снисхожденіе должно имѣть границы, и мы ихъ обязаны означить. Границы эти — стремленіе къ созерцанію и духовности, которыя присущи древнимъ напѣвамъ и требуются Православной богослужебной аскетикой.
Мы теперь будемъ говорить о гармоническомъ исполненіи этихъ напѣвовъ, въ частности, и преимущественно — о гармонизаціи ихъ. А такъ какъ и тутъ мы совершенно не собираемся устанавливать какія-либо догмы, не собираемся давать совѣты г.г. композиторамъ-гармонизаторамъ, то наша задача сводится лишь /с. 42/ къ тому, чтобы помочь себѣ и другимъ уяснить и провѣрить церковность тѣхъ или иныхъ переложеній древнихъ роспѣвовъ. Мы попробуемъ просто выяснить тѣ принципы, которыми мы, слѣдуя церковной логикѣ, должны были бы руководствоваться при оцѣнкѣ какого либо духовно-музыкальнаго переложенія.
Задачей духовно-музыкальнаго критика является не столько музыкальная оцѣнка какой либо вещи, сколько оцѣнка того духовнаго состоянія, въ которое насъ вводитъ слушаніе ея. Другими словами, духовно-музыкальный критикъ долженъ при своемъ разборѣ становиться на точку зрѣнія аскетическую. (Въ статьѣ объ инструментальной музыкѣ мы указали, какъ нужно понимать выраженіе «аскетическая точка зрѣнія»).
Всякое духовно-музыкальное произведеніе могло бы разсматриваться съ слѣдующихъ точекъ зрѣнія: 1) Музыкально-грамматической, 2) Технической, 3) Эстетической и 4) Аскетической. Первыя двѣ точки зрѣнія мы согласны предоставить на судъ широкаго круга музыкантовъ, сужденіе же съ третьей точки зрѣнія преимущественно, а съ четвертой — исключительно должно принадлежать лицамъ въ полной мѣрѣ церковнымъ, хранящимъ преданіе благочестія. Это особенно важно, ибо преданію благочестія (включая сюда и ту науку, какъ чувствовать) невозможно научиться по книгамъ: оно не поддается записи. Это преданіе обнимаетъ и способъ восчувствованія, настроенность всей нашей религіозной жизни; хранится оно всею Церковью. Говоримъ откровенно, не склонны мы довѣрять въ этой области крайнимъ модернистамъ и т. н. «ищущимъ» людямъ. Они не дышатъ апостольскимъ преданіемъ, они только ищутъ путей этого восчувствованія, въ то время какъ пути эти давнымъ давно уже найдены и указаны; остается только идти по нимъ, содѣлывая свое спасеніе. Не опираясь на многовѣковый церковный опытъ, они такъ чувствуютъ по своему мнѣнію-разумѣнію, какъ преломляется въ ихъ сознаніи та или иная истина, часто искажаясь вслѣдствіе ихъ общей неправильной духовной установки. У нихъ все субъективно. Правильно или нѣтъ ихъ воспріятіе? Не въ прелести ли они? Не принимаютъ ли они построенія своего ума, свои обманчивыя настроенія за истину? Кто поручится, что именно ихъ воспріятіе правильно?
Какъ разъ наоборотъ — отходя отъ преданія, порывая съ нимъ, они теряютъ истинное ощущеніе православности, а потому не могутъ передать и научить насъ способу восчувствованія въ Церкви.
Если и говорятся громкія фразы о прогрессѣ, которому-де необходимо слѣдовать въ Церкви, и за которымъ должно идти и церковное искусство, то прогрессъ въ такомъ случаѣ понимается /с. 43/ не такъ какъ нужно [2]. Мы же отнюдь не противъ прогресса. Церковь сама по себѣ прогрессивна въ высшей степени и ради прогресса и основана. Ибо что есть истинный прогрессъ? Вѣдь, это есть постоянное приближеніе къ совершеннѣйшему образу Божьему, возстановленіе прежней «доброты зданій». Вотъ это — духовный ростъ, ростъ вверхъ, исправленіе духовныхъ искривленій, причиненныхъ грѣхомъ — и есть истинный прогрессъ. Все же, что внѣ этого, что не содѣйствуетъ духовному росту въ сторону возстановленія первозданной чистоты души, является попросту толченіемъ на одномъ мѣстѣ, а то такъ просто вредно нравственно, направляя ростъ души не вверхъ, а параллельно землѣ. А это уже не прогрессъ, а регрессъ. А потому, современная «культура», оторвавшись отъ Бога, поставившая себѣ цѣль на землѣ, регрессивна, а не прогрессивна.
Такимъ образомъ, становясь на церковную точку зрѣнія, мы не можемъ признать за модернизмомъ прогрессивности.
Но это опять таки не значитъ, что мы отвергаемъ развитіе въ церковномъ искусствѣ. Только развитіе это не должно идти въ сторону исключительно техники: это покажетъ скорѣе умъ и сноровку художника, овладѣвшаго матеріальными средствами, въ то время какъ намъ важно развитіе духа, исправленіе въ немъ искривленій, произведенныхъ грѣхомъ, — и то, какъ это отразилось въ его произведеніяхъ.
Коснувшись техники искусства, слѣдуетъ немножко задержаться мимоходомъ на этомъ вопросѣ. Эту сторону церковно-пѣвческаго искусства нельзя, конечно, отрицать. Техника пѣснопѣнія представляетъ собою отдѣльную область въ литургической наукѣ. Мы обращаемъ особое вниманіе именно на отношеніе церковнаго пѣнія къ литургикѣ, въ то время, какъ техническая сторона часто относилась исключительно къ музыкѣ: вѣдь, церковное пѣніе имѣетъ болѣе широкія задачи, чѣмъ просто украшеніе богослуженія. Церковный уставъ до нѣкоторой степени регулируетъ технику, предписывая тотъ или иной способъ исполненія пѣснопѣній: «косно и со сладко пѣніемъ» — «велми» — «по скору» и т. д. Поэтому, обращая вниманіе на технику пѣснопѣнія, мы должны проникнуть нѣсколько глубже. Мы должы пытаться проникнуть въ психологію творческаго процесса композитора. Изученіе одной лишь технической стороны дастъ намъ представленіе о ремесленной, такъ сказать, сторонѣ, — а это намъ не такъ важно. Намъ нужно уразумѣть не ремесленные пути искусства, а творческіе. Вѣдь, творческому генію подчиняется часто невоспи/с. 44/танная техническая рука. Айвазовскій дѣлалъ рисунки, обнаруживавшіе его геній, еще будучи босоногимъ разносчикомъ воды. Моцартъ очаровывалъ всѣхъ своими импровизаціями, когда не зналъ еще премудростей контрапункта. Творческій геній творитъ технику, а не техника образуетъ генія. Въ творчествѣ же духовнаго композитора-гармонизатора мы можемъ усмотрѣть слѣдующія стороны — это усваиваніе церковнаго сознанія и затѣмъ, такъ сказать, морфопіитику — созданіе формъ выраженія этого усвоеннаго сознанія. Послѣднее тѣсно связано съ обстановкой, въ которой происходитъ первое (усвоеніе сознанія). Такъ при разборѣ духовно-музыкальнаго произведенія мы должны отъ формы-техники восходить къ главной побудительной причинѣ этой формы — къ сознанію, чувству автора.
Въ связи съ этимъ возникаетъ вопросъ о лирикѣ въ церковномъ искусствѣ, въ частности — въ пѣніи.
Допустима ли музыка въ церковномъ пѣніи?
Лирика есть выраженіе личнаго чувства — не объективнаго переживанія, а субъективнаго. Если пѣвецъ, созерцая тайну домостроительства Божія, слилъ свои чувства съ чувствами Церкви, разъ онъ сознаетъ все такъ, какъ сознаетъ и учитъ Церковь, и это чувство передаетъ въ пѣснопѣніи, то онъ перестаетъ быть лирикомъ. Но какъ скоро онъ займется собственными переживаніями, попробуетъ ихъ передать, остановить вниманіе на переживаніи собственной радости, собственной скорби, — однимъ словомъ, когда центръ вниманія будетъ онъ самъ, онъ дѣлается лирикомъ. И тутъ у насъ уже нѣтъ гарантіи въ правильности его духовнаго тоноса; довѣряться ему — рискованно, если праведность жизни и духовная опытность пѣвца не гарантируютъ до извѣстной степени правильность его чувствъ.
Кромѣ того, часто лирикъ стремится не столько выразить, сколько изобразить чувство, съ цѣлью вызвать таковое у слушателя. Такъ, напримѣръ, въ знаменитомъ «Покаянія» Веделя изображенъ ужасъ на словахъ «окаянный трепещу». Здѣсь вопль баса именно разсчитанъ на то, чтобы вызвать у слушателя представленіе ужаса.
Это само по себѣ неправильно. Аскетика строго запрещаетъ вызывать искусственно какое бы то ни было чувство: слезы, страхъ, радость [3]. Чувство должно приходить само собой, естественно, какъ реакція на рядъ сообщенныхъ конкретныхъ идей.
Другое совсѣмъ дѣло, когда напѣвъ или гармонія хотятъ выразить представленіе о чемъ нибудь, передать какое либо впечатлѣніе. Эта изобразительность напѣва вполнѣ допустима, ибо изображаетъ не чувства, которыя могутъ быть ошибочны, а какія /с. 45/ либо внѣшнія впечатлѣнія. Этимъ объясняется появленіе въ знаменномъ роспѣвѣ такихъ живописующихъ различные предметы попѣвокъ, какъ, напримѣръ, попѣвка «ромца меньшая» на словахъ «море» въ догматикѣ 5 гласа, гдѣ превосходно изображено море, вскипѣвшее волнами, или «поѣздка» на словахъ въ «Чермнѣмъ мори» того-же догматика, гдѣ тоже изображается волнующееся море, но гораздо спокойнѣе — какъ бы передъ раздѣленіемъ его для прохожденія Израиля. Другой примѣръ можемъ предложить въ догматикѣ 4 гласа, на словахъ «пѣсненно», гдѣ «ѳита мрачная» передаетъ впечатлѣніе широкой разливающейся пѣсни. Напомнимъ мѣста въ турчаниновскомъ переложеніи «Тебѣ одѣющагося» на словахъ «и раздирашеся церковная завѣса», — гдѣ геніально разгадано въ напѣвѣ и еще болѣе геніально передано въ полифоніи содроганіе природы и раздраніе завѣсы, а на словахъ «увы!» — тихій плачъ-причитаніе.
Это — какъ бы пейзажный фонъ на иконѣ, гдѣ какія нибудь одна-двѣ колонны, занавѣсъ, башня, пучокъ травки, даютъ самое общее представленіе о домѣ, храмѣ, городѣ, пустыни, гдѣ ступенчатая горка съ разсѣлиной даетъ представленіе о безднѣ. Все это — фонъ, но имѣющій иногда важное значеніе для общаго настроенія, значеніе объясняющее, но не главное. Этотъ фонъ направляетъ извѣстнымъ образомъ мысль и подготовляетъ почву для правильнаго воспріятія тѣхъ или иныхъ чувствъ. Но, понятно, главное въ этихъ мимолетныхъ попѣвкахъ-пейзажахъ въ общемъ тонѣ воспріятія пѣснопѣнія. (Правда, и знаменный роспѣвъ бываетъ не чуждъ изображенію чувства, напр., какъ «ѳита пятогласная» въ Пасхальныхъ стихирахъ прекрасно выражаетъ радость). Но роспѣвъ созданъ подвижниками-пѣвцами, людьми жившими церковною жизнію, а потому мы и довѣряемся ихъ восчуветвованію. Иное дѣло композиторъ, подходящій къ тексту и мелодіи часто безъ знанія даннаго пѣснопѣнія въ общемъ зданіи богослуженія. Онъ тогда вынужденъ прибѣгнуть къ мѣрамъ и пріемамъ искусственнымъ. Такъ случилось съ Чайковскимъ, совершенно не понявшимъ значеніе и тонъ Символа Вѣры въ Литургіи и лихо раздѣлавшимъ его подъ концертъ; съ Рахманиновымъ, не понявшимъ тона внутренней сосредоточенности и отложенія чувственнаго міра («всякое нынѣ житейское отложимъ попеченіе») и сдѣлавшимъ въ Херувимской шумный и суетливый конецъ, болѣе подходящій для заключительной оперной сцены, чѣмъ для гимна, побуждающаго и увѣщающаго насъ всѣ наши чувства устремить горѣ. И тутъ Рахманиновъ въ своей Литургія старается не выразить, а изобразить чувство. Мысль изобразить чувство — сама по себѣ неправильна, ибо изобразить можно что-либо внѣшнее, внѣшнее выраженіе чувства, аффектацію, — а это уже будетъ надуманно, субъективно, театрально, ибо не/с. 46/естественно: композиторъ, стараясь изобразить чувство, долженъ себѣ его вообразить, искусственно себя взвинтить въ то время. Такъ, чтобы его естественно передать, онъ долженъ его естественно и почувствовать.
Но предметомъ настоящей нашей замѣтки является не вопросъ о композиціяхъ, а о гармонизаціяхъ — то есть объ облеченіи въ полифоническую одежду мелодій, созданныхъ Церковью, и, слѣдовательно, выражающихъ церковное чувство. Въ этомъ случаѣ композиторъ не сочиняетъ своей мелодіи, а пользуется готовой. Его дѣло — раскрыть и сдѣлать помощью голосовъ хора эту мелодію болѣе рельефной, еще точнѣе передать чувство, скрытое въ мелодіи.
Церковная мелодія есть самое цѣнное въ пѣніи; это есть непосредственное выраженіе чувства пѣвца. Чувство само нашло себѣ форму. Въ монолитности напѣва (формы чувства) со словомъ (формою мысли) и заключается цѣнность ея. Древніе піиты были и мелодами: творя каноны и стихиры, они не только выражали свои мысли, давая имъ словесную форму, но одновременно творили и мелодію — давали форму чувству.
Для гармонизатора важно эту монолитность разгадать. Ему важно создать нѣчто такое же монолитное, какое было создано піитомъ-мелодомъ.
Гармонизаторъ сдѣлалъ бы величайшую ошибку, если бы подходилъ къ мелодіи съ цѣлью дать ей только гармоническое хоровое сопровожденіе. Такую ошибку допустилъ Львовъ и его сотрудники въ нѣкоторыхъ своихъ переложеніяхъ, звучавшихъ для церковнаго уха непривычно и не отвѣчавшихъ церковному пониманію текста [4], а также и Потуловъ, чьи переложенія носятъ характеръ сухихъ хораловъ. Ошибки эти были вызваны неправильной точкой зрѣнія, на которую стали эти перелагатели. Они, какъ извѣстно, во чтобы то ни стало хотѣли вложить мелодію въ рамки четырехголосной хоровой гармоніи, по возможности каждую ноту напѣва усилить гармоніей. Они примѣнили къ православной мелодіи то, что примѣнялось къ западному хоралу. Отъ этого древняя мелодія въ ихъ переложеніяхъ потеряла главное свое свойство — текучесть. (Это направленіе вдохновлялось кн. Одоевскимъ и явилось естественной реакціей противъ господствовавшей итальянщины. Но кн. Одоевскій и его кружокъ ударились въ другую крайность).
Хоралъ, гдѣ мелодія не имѣетъ такой текучести, именно cantus planus — ярко выражаетъ собою настроеніе нѣсколько /с. 47/ иного уклада, чѣмъ православное, сосредоточивающееся внутри себя. Онъ свойственъ своимъ мѣрнымъ поступательнымъ движеніемъ, чуждымъ яркихъ эмоцій, тому настроенію, гдѣ сердце играетъ весьма малую роль, а гдѣ преобладаетъ разумъ. Хоралъ не можетъ выразить всѣ тонкія трепетанья чувства, оттѣнокъ воспріятія той или иной истины. Хоралъ — какъ бы сырой докладъ Господу Богу о своихъ воззрѣніяхъ, разсказъ о своихъ чувствахъ, но не самое чувство. Поэтому, думается, въ протестантскомъ богослуженіи такъ и излюбленъ хоралъ съ однообразной медленной наступательной мелодіей, безъ украшеній, безъ чувства. Въ противоположность ей мы имѣемъ извилистую и весьма текучую, истекающую какъ бы изъ глубинъ духа, трудно уловимую въ ея безконечныхъ фіоритурахъ греческую мелодію, порожденную самоуглубившимся духомъ, созерцающимъ и чувствующимъ тайны благочестія, логически-неуловимаго въ своихъ трепетаньяхъ, какъ неуловима вполнѣ точно и сама мелодія, состоящая изъ множества мелизмъ, придыханій, усиленій форшлаговъ, замираній, открытыхъ звуковъ или носовыхъ, подголосковъ, но безстрастная, чуждая аффектаціи, иногда лишь взлетающая въ высоту, въ октаву своему исону — какъ вздохъ, или же опускающаяся въ низы…
Итакъ, одинъ видъ гармонизаціи — это когда гармонизаторъ принимаетъ обиходную мелодію за основаніе строгаго хорала. Таковы, напр., работы Потулова, Львова, Воротникова, Соловьева, многія работы Архангельскаго. Аккордовая гармонія ни на минуту не покидаетъ мелодіи, композиторъ заботится прежде всего о правильности гармоніи. Здѣсь перевѣсъ беретъ гармоническій элементъ.
Другой видъ гармонизаціи даетъ перевѣсъ мелодическому элементу, и гармоническій четырехголосный складъ часто приносится въ жертву мелодіи. Все вниманіе гармонизатора сосредоточено на томъ, чтобы возможно точнѣе помочь сопровождающимъ голосамъ выразить аскетическое (въ широкомъ смыслѣ слова) значеніе мелодіи. Таковы нѣкоторыя работы Кастальскаго, Яичкова, П. Чеснокова, Комарова и др. болѣе новыхъ авторовъ.
Но здѣсь возможны не всегда здоровыя и правильныя увлеченія. Такъ, напримѣръ, Н. Компанейскій далъ не мало работъ въ чисто народномъ духѣ: правильно понявъ мелодическія (а не тональныя) основы знаменнаго распѣва, онъ примѣнилъ для гармонизаціи систему подголосковъ. Мысль по существу правильная, но часто у него неправильно осуществленная. А потому, его работы, хотя и пропитаны народнымъ духомъ, но не всегда безупречны въ церковномъ отношеніи. Въ его переложеніяхъ есть иногда кое-что надуманное; онъ пытается изобразитъ чувство (напр., въ богородичнѣ на стиховнѣ гл. 2, гармонизуя «ѳиту чу/с. 48/десную», онъ заставляетъ альта, дисканта и тенора по очереди восклицать «О!»), поручаетъ отдѣльныя фразы голосамъ соло (напр., «кто бо позна» — слово «кто?!» — въ томъ же Богородичнѣ), что не всегда бываетъ удачно и иногда отдаетъ театральщиной.
На примѣненіе различныхъ способовъ гармонизаціи для болѣе правильнаго музыкально-церковнаго толкованія напѣва указалъ А. Кастальскій въ своей брошюрѣ: «Практическое руководство къ выразительному пѣнію стихиръ при помощи различныхъ гармонизацій» [5]. Напримѣръ, замѣчательно гармонизована мелодія 5-го гласа, «Тебе одѣющагося» [6]: иногда параллельное движеніе баса и мелодіи въ нужныхъ мѣстахъ усиливаетъ ее: это иногда слышится какъ перестающее чувство скорби («рыдая глаголаше»), иногда какъ эпически спокойное повѣствованіе («снемъ Іосифъ»), Унисонъ на «и земля страхомъ колебашеся» передаетъ содроганіе твари несравненно лучше и сильнѣе всякихъ драматическихъ «оккаянный… трррепещщу!!!», хотя здѣсь у всѣхъ голосовъ имѣется только безхитростная обиходная мелодія.
Не менѣе интересна гармонизація речитатива у А. Никольскаго въ его переложеніяхъ пѣснопѣній Страстной Седьмицы: напр., «Къ Тебѣ утреннюю» (Ор. 35, № 7): на словахъ «милосердія ради», при речитативѣ мелодіи басъ и альтъ идутъ въ противоположномъ движеніи изъ сексаккорда въ трезвучіе, чѣмъ выдѣляется слово «ради», пріобрѣтая безъ всякаго внѣшняго пріема особую силу, — а этимъ достигается то, что логическое удареніе падаетъ на слова «милосердія ради» почти непримѣтно для слушателя.
Повторимъ: задача гармонизатора — угадать аскетическое значеніе данной мелодіи, понять монолитность мелодіи и текста и затѣмъ пояснить его языкомъ аккордовъ для слушателей. Но мелодія текуча. Что именно нужно въ ней подчеркнуть, объяснить — вотъ это-то и долженъ почувствовать гармонизаторъ. Хоръ несравненно менѣе гибокъ для передачи тѣхъ неуловимыхъ оттѣнковъ, которые можетъ передать одинъ пѣвецъ-мелодъ, какъ это было и есть въ византійскомъ пѣніи. Масса вообще не гибка, чѣмъ и объясняется нѣкоторая мертвенность хорала, предназначеннаго для исполненія массой. Какъ подчеркнуть какую-нибудь тонкую черту мелодіи? Одинъ характеръ имѣетъ аккордъ, если въ немъ удвоить тотъ или иной аккордовый тонъ, но этотъ характеръ сейчасъ же мѣняется при удвоеніи какого либо другого аккордоваго тона. Не говоримъ уже о разницѣ настроенія, создаваемой обращеніями аккорда… Достаточно вспомнить ирмосы ред. Львова /с. 49/ (греческаго роспѣва) «Моря чермную», гдѣ читокъ происходитъ на V 5/6 аккордѣ, — какъ это получается непразднично, безпокойно, даже нѣсколько неуклюже, такъ что за этой надуманной гармоніей трудно узнать бодрый напѣвъ 4-го гласа, имѣющій торжественный характеръ, что, между прочимъ, чувствуется и въ сербскомъ пѣніи.
Народное пѣніе геніально оттѣняетъ настроеніе въ мелодіи своей причудливой, совершенно самозаконной гармоніей — контрапунктомъ. Какъ иногда мощный унисонъ расцвѣтетъ неожиданнымъ аккордомъ, или вдругъ аккордъ съ необычными въ офиціальной гармоніи удвоеніями сольется въ унисонъ, или мелодія дисканта вторится въ терцію (вѣрнѣе — въ дециму) басомъ, или альтъ и басъ начинаютъ идти въ унисонъ при органномъ пунктѣ дисканта… Все это создаетъ совершенно различное настроеніе, совершенно по разному позволяетъ воспринимать текстъ… По особому ведется вниманіе, совсѣмъ иные образы возникаютъ у слушателя, чѣмъ при хоральномъ сопровожденіи мелодіи. Голоса въ данномъ случаѣ — что краски въ картинѣ. Въ аккордовой, строго гармонической обработкѣ мелодіи гармонизаторъ не придаетъ особо важнаго колоритнаго значенія отдѣльнымъ голосамъ. Ему гораздо важнѣе общее ихъ звучаніе, аккордъ. Это какъ бы карандашный рисунокъ, гдѣ эффектъ производитъ общая совокупность линіи и свѣто-тѣни, а не красокъ.
При контрапунктическо-мелодической обработкѣ каждый голосъ есть цѣнная краска на музыкальной палитрѣ художника-гармонизатора. Его проникновенность въ духъ, общую настроенность и идею древней мелодіи и будетъ заключаться въ томъ умѣніи распорядиться каждымъ отдѣльнымъ голосомъ, какъ живописецъ распоряжается красками и геніальнымъ, часто неуловимымъ мазкомъ мѣняетъ все настроеніе картины, заставляя ее ожить, задѣвая въ душѣ зрителя-слушателя какую-то тайную струну и тѣмъ заставляя нашу мысль и чувство идти по совершенно новому руслу.
Какъ на примѣръ различнаго подхода къ древней мелодіи укажемъ на два переложенія. «Достойно», т. н., Аѳонскаго роспѣва (вѣрнѣе, Болгарскаго роспѣва, гл. 1, подобенъ «Объятія» или «Гробъ Твой, Спасе»), Д. Аллеманова и Д. Яичкова, оба для смѣшаннаго хора. У Аллеманова эта мелодія гармонизована хорально, сплошными аккордами, отчего вся вещь, по преимуществу мелодическая, теряетъ свою текучесть и кажется очень грузной. Мелодія, несмотря на свою плавность и сравнительно небольшой діапазонъ, очень умилительна и богата движеніемъ, легка и текуча; разныя мелизмы, которыми изобилуетъ подлинное греческое (болгарское — видоизмѣненіе греческаго) пѣніе сами напрашиваются къ этой мелодіи.
/с. 50/ Въ цѣломъ пѣснопѣніи, такъ, какъ его поютъ въ Пантелеймоновомъ монастырѣ на Аѳонѣ, громадной массой монаховъ, чувствуется глубочайшее радостное умиленіе, но не дѣланная страстность или жалобность, которыя часто принимаются за умиленіе нашими дамами, получившими въ институтахъ (pardon, mesdames!) порядочную инъекцію католическаго вѣроощущенія. Нѣтъ, мы говоримъ о томъ сладостномъ умиленіи, которое вселяетъ глубочайшій миръ въ душѣ и порождаетъ благодатную слезу, противъ воли стекающую изъ очей. Мелодія эта какъ бы порхаетъ между землей и небомъ, то вздохомъ возносится она къ небу, то спускается, волнуясь, вновь на землю, наростая, какъ морская волна, или угасая, какъ послѣдніе лучи вечерней зари.. Входя въ разборъ общаго настроенія этого пѣснопѣнія, мы скорѣе склонны почувствовать въ немъ именно сладкое умиленіе, а не торжественный, громкій гимнъ. Мы, грѣшные и недостойные, именно только такъ можемъ дерзнуть присоединить свое пѣніе къ серафимовскому хваленію Честнѣйшей херувимъ. Торжественный гимнъ былъ бы слишкомъ дерзновененъ для насъ. Мы Ей воспѣваемъ радостную, но тихую и мирную пѣснь. (Замѣчательно, что то же настроеніе сквозитъ и въ мелодіи «Достойно» подъ названіемъ «роспѣва царя Ѳеодора» и «Жуковской малой», также и въ сербскихъ мелодіяхъ — особенно 5-го гласа, а также и въ мелодіи 4-го гласа въ редакціи Мушицкаго).
Яичковъ превосходно понялъ это настроеніе мелодіи и выдѣлилъ эти черты въ своей гармонизаціи. Онъ то сливаетъ голоса въ мощный, но не громкій унисонъ, то, оставляя пѣть одни дѣтскіе голоса, изображаетъ какъ доносящійся изъ горняго міра отголосокъ ангельскаго пѣнія, послѣ чего слышится славословіе земнородныхъ («блажити Тя») при отдаленномъ, замирающемъ отзвукѣ ангельскаго лика (органный пунктъ дискантовъ), причемъ, ходъ баса въ противосложеніи нисколько не затѣняетъ мелодію, порученную альту, а, наоборотъ, выдѣляетъ ее, подчеркиваетъ; органный пунктъ дискантовъ придаетъ характеръ не-земности всему пѣснопѣнію. Это и рождаетъ въ душѣ чувство устремленности, — устремленности къ небесному.
Простая, тяжеловѣсная аккордовая гармонія, какъ мы видимъ въ переложеніи Аллеманова, не можетъ создать такое настроеніе. Въ этой гармоніи пропадаетъ вся умилительность мелодіи; ея тихое теченіе затемняется шумомъ аккордовъ, не дающихъ возможности возникнуть сердечному вниманію. А это — самое важное.
Возьмемъ для примѣра еще два переложенія «Дѣва днесь» болгарскаго роспѣва — одно общеизвѣстное, традиціонное, Д. Бортнянскаго, другое — гораздо менѣе извѣстное, къ сожалѣнію, но несравненно болѣе высокое по своей проникновенности — Г. /с. 51/ Львовскаго. Оба автора гармонизовали мелодію аккордами, но совершенно по разному подошли къ ней.
Не будемъ принимать во вниманіе повтореніе словъ и концы мелодическихъ періодовъ въ переложеніи Бортнянекаго (на словахъ «раждаетъ» — «приноситъ», и т. д.), каковое отступленіе отъ подлинной мелодіи обихода [7] внушено Бортнянскому его зависимостью отъ итальянской школы, или, быть можетъ, онъ слыхалъ изъ устъ какого нибудь южно-русскаго пѣвца, допустившаго, опять таки подъ вліяніемъ итальянцевъ, измѣненіе мелодіи повтореніемъ словъ и лихимъ залетомъ вверхъ. (Первое предположеніе намъ кажется вѣроятнѣе). Мелодія и у Львовскаго и у Бортнянекаго, за исключеніемъ указанныхъ мѣстъ, одинакова. (Въ подтекстовкѣ разница небольшая есть). Но гармонизована мелодія совершенно различно. У Бортнянскаго — это громкая, торжественная пѣснь, все время звучащая forte или даже fortissimo, полная радости, торжества, свѣта.
У Львовскаго — спокойное, тихое повѣствованіе, окутанное какой-то таинственностью — какъ бы передающее настроеніе рождественской мерцающей многозвѣздкой ночи, той тишины и непостижимости, въ которой совершалась Велія Благочестія Тайна… Отъ его переложенія вѣетъ простымъ, но Божественнымъ, проникающимъ въ душу Евангельскимъ повѣствованіемъ: спокойнымъ, ровнымъ — какъ спокойны всѣ движенія фигуръ на древнихъ иконахъ рождества Христова (въ противоположность иконамъ Воскресенія—Сошествія во Адъ, гдѣ чувствуется стремительность). Спокойная пѣснь въ изложеніи Львовскаго собираетъ наши чувства и умъ и таинственно вводитъ его внутрь Виѳлеемской пещеры. Тихая-тихая (безъ басовъ), прозрачная легкая гармонія на словахъ «Ангели съ пастырьми славословятъ» изображаетъ намъ доносящееся съ полей, окутанныхъ ночной тьмой, славословіе Ангеловъ и свирѣли пастырскія…
А по безконечнымъ песчанымъ холмамъ пустыни, въ многозвѣздной ночи идутъ, позванивая бубенцами, караваномъ верблюды: то волсви со звѣздою путешествуютъ.
Одни басы (2 баритона, 2 баса), все также спокойно поютъ эту древнюю мелодію…
И затѣмъ весь хоръ, полной, но не громкой гармоніей поясняетъ значеніе всего этого пѣснопѣнія-иконы: насъ бо ради родися Отроча младо…
Чье же толкованіе правильнѣе?
/с. 52/ Кондакъ въ теперешнемъ его видѣ есть введеніе въ цѣлую поэму, повѣствующую о Рождествѣ Христовѣ. Икосъ разъясняетъ нѣсколько общій тонъ кондака. Тонъ этотъ — радостный, но скорѣе спокойный, сосредоточенный, созерцательный, чѣмъ торжественно-побѣдный, какъ его воспринялъ Бортняискій. (Нѣсколько вѣрнѣе, думается, понять духъ кондака въ знаменномъ роспѣвѣ, геніально переложенномъ А. Кастальскимъ. Но объ этомъ не будемъ теперь говорить. Но въ знаменномъ роспѣвѣ чувствуется больше радостности, чѣмъ въ мелодіи болгарскаго роспѣва, хотя и тамъ нѣтъ побѣднаго мотива, какой переданъ Бортнянскимъ. Мелодія же болгарскаго роспѣва по Львовскому Ирмологу отличается именно спокойствіемъ и какой-то самоуглубленностью).
Чтобы вѣрно понять мелодію, необходимо погрузиться въ то настроеніе, которымъ дышалъ мелодъ-піитъ. Нужно также понять мѣсто, которое занимаетъ пѣснопѣніе въ богослуженіи. Иначе, неправильнымъ пониманіемъ можно испортить всю гармонизацію; мало того: можно неправильно воспитать все слушающее общество. (Такъ оно и случилось съ итальянщиной и нѣметчиной).
Свѣтскіе композиторы часто писали свои произведенія подъ живымъ впечатлѣніемъ видѣннаго и пережитаго. Такъ, Бизе написалъ «Карменъ» послѣ поѣздки въ Испанію: это былъ итогъ его впечатлѣніямъ. Вагнеръ создалъ «Голландца» подъ впечатлѣніемъ бури въ Сѣверномъ морѣ. Творя «Нибелунговъ» и всю геніальную трилогію, онъ старательно изучалъ и проникался духомъ германскаго эпоса, съ его демоническимъ оттѣнкомъ. Даже легенды о Граалѣ пронизаны какимъ-то демонизмомъ. Тамъ не чувствуется жажды обновленія, новотворенія, богообщенія, какъ въ Православіи. Въ Православіи это послѣднее чуство далъ намъ геніальный «Китежъ» Римскаго-Корсакова (который у насъ совершенно неправильно называютъ русскимъ «Парсифалемъ», вѣроятно, въ силу привычки придавать больше авторитета сравненіемъ съ иностранщиной). Въ Православіи человѣкъ черезъ смиреніе и подвигъ приходитъ къ Богообщенію. Средневѣковый западъ этого не чувствовалъ: онъ былъ весь подъ гнетомъ демонской силы и въ отчаяніи искалъ спасенія отъ нея не въ освобожденіи отъ страстей, а въ суевѣрномъ прибѣганіи подъ кровъ церкви, т. е. всесильнаго замѣстителя Христа (вмѣсто Христа, анти-Христа) — папы.
Такъ и православному композитору для правильнаго пониманія духа мелодіи необходимо внимательно изучить самую аскетику Православія, вжиться въ духъ тѣхъ подвижниковъ, которые опытно познали всѣ таинственные изгибы человѣческаго духа.
Неправильно было бы, если композиторъ-гармонизаторъ /с. 53/ только умомъ охватывалъ пѣснопѣніе. Нужно, чтобы и мелодія и слова, пройдя черезъ умъ въ сердце, звучали изъ сердца, какъ молитва. Но если мы будемъ чужды этой аскетики, если мы сами опытно не пройдемъ все это, то тщетны наши старанія истолковать вещь: мы передадимъ гармонизаціей только то, какъ мы ее разумомъ понимаемъ.
Композиторъ-гармонизаторъ долженъ также проникнуться духомъ Православія, духомъ Патериковъ, Пролога, какъ долженъ ими проникнуться писатель-художникъ, когда перерабатываетъ религіозный сюжетъ. Лѣсковъ написалъ трогательныя переложенія сказаній Пролога. Онъ почти проникся ихъ духомъ, ихъ обстановкой. Онъ какъ бы дышалъ тѣмъ воздухомъ, чудеснымъ, надземнымъ, какъ чудесны ступенчатыя горки древнихъ иконъ, ихъ золотое мерцающее небо, сухіе изгибы аскетическихъ, умиленныхъ фигуръ. Онъ именно переложилъ, онъ раскрылъ не смыслъ ихъ, но чувство, которое было разлито въ сказаніяхъ, объяснивъ намъ обстановку (уже непонятную для насъ), вслѣдствіе чего и самые характеры имъ начертанные стали для насъ ясны и близки [8]. И замѣтьте, какъ строго выдержанъ общій тонъ и духъ въ этихъ произведеніяхъ Лѣскова.
Для пониманія чувства, породившаго извѣстное произведеніе искусства, чтобы уразумѣть духъ его, необходимо знать тѣ идеи, ту обстановку — желанія, стремленія, чаянія, воззрѣнія, — однимъ словомъ все, что создаетъ въ человѣкѣ то, что мы называемъ міросозерцаніемъ.
Но литераторъ-пересказчикъ не такъ отвѣтственъ за свои переложенія, какъ гармонизаторъ: послѣдній пишетъ для молящихся и беретъ на себя задачу руководить ихъ воспріятіемъ богослужебнаго матеріала, а потому мы въ правѣ требовать отъ него безусловной аскетической вѣрности.
Эта вѣрность, какъ мы уже говорили, состоитъ вовсе не въ томъ, что пѣснопѣніе будетъ гармонизовано по правиламъ «строгаго стиля», каковой выработанъ для западной церковной музыки, но въ томъ, что настроеніе, создаваемое вещью, будетъ соотвѣтствовать тому, которое имѣлось въ виду у творцовъ данной службы и даннаго пѣснопѣнія. А для этого часто умѣстны отступленія отъ, т. н., «строгаго стиля». Каждый голосъ хора — цѣнная краска, подобно тому, какъ въ оркестрѣ тембръ каждаго отдѣльнаго инструмента. И для созданія того или иного настроенія композиторъ поручаетъ мелодію то скрипкѣ, то флейтѣ, то англійскому рожку, то віолончели, то фаготу, — и одна и та же мелодія пріобрѣтаетъ каждый разъ новый колоритъ.
/с. 54/ Итакъ, разъ наши древніе роспѣвы — мелодическіе, то, думается, послѣднимъ способомъ гармонизаціи часто скорѣе достигается цѣль, чѣмъ сплошной аккордовой гармоніей. Ибо такая обработка мелодіи болѣе гибка для выраженія чувства и для координированія настроенія мелодіи со смысломъ текста. Мы уже полагали въ свое время, что мелодическое пѣніе имѣетъ весьма серьезныя преимущества для «сердечнаго вниманія». Думается, хоральная гармонія не можетъ такъ ярко выдѣлить мелодію, какъ обработка безъ предвзятой цѣли обязательно аккордомъ украсить почти каждую ноту мелодіи. Послѣднее было заблужденіемъ, навѣяннымъ западомъ. И, думается, «строгій стиль» является для нашей Церкви «строгимъ» очень относительно. Вѣдь, строгость въ православной богослужебной аскетикѣ не означаетъ въ сущности мертвенности и отсутствія чувства. Въ аскетической правильности нашего настроенія, въ объективной вѣрности нашего воспріятія, въ чистотѣ исповѣданія и чувства (не примѣшивается ли къ нему что-либо постороннее, уклоняющее насъ въ сторону?), и заключается, думается, строгость православнаго произведенія искусства. Разъ наша аскетика отличаетя отъ западной, то ясно, отличаются и требованія, предъявляемыя художественному произведенію.
А съ этой точки зрѣнія дѣйствительно строгимъ стилемъ будетъ являться не сухость и мертвенность хоральнаго склада, а тотъ складъ, который наиболѣе рельефно выдѣлитъ характеръ и настроеніе древней церковной мелодіи, облекаемой въ хоровую одежду. Поэтому, многія переложенія, которыя совершенно не удовлетворили бы сторонниковъ школьнаго, «строгаго стиля», можно было-бы признать съ этой точки зрѣнія вполнѣ отвѣчающими православному духу и вполнѣ строгими. Ибо для православнаго пѣснопѣнія нуженъ иной критерій строгости стиля, чѣмъ для пѣнія латинскаго и протестантскаго.
Посему правила православнаго «строгаго стиля» переложеній необходимо должны быть иныя, чѣмъ строгаго стиля западнаго.
До сихъ поръ о немъ съ этой точки зрѣнія не говорили. Но эти правила намѣчаются, и намѣчаются въ работахъ тѣхъ композиторовъ, которые отрѣшились (быть можетъ, иногда и безсознательно) отъ предвзятой точки зрѣнія на гармонизацію, навѣянной неправильнымъ западнымъ взглядомъ.
И наше глубокое убѣжденіе: наука о православномъ церковномъ пѣніи еще скажетъ о немъ свое слово.
И. Гарднеръ.
Примѣчанія:
[1] Настоящая статья принадлежитъ къ тому же циклу докладовъ по вопросамъ эстетики и аскетики церковнаго искусства, что и статья «Объ инструментальной музыкѣ и полифоническомъ пѣніи въ православномъ богослуженіи», и такимъ образомъ связана съ нею.
[2] Критикѣ неправильнаго пониманія прогресса посвящена превосходная статья графа Ю. П. Граббе «Культура, прогрессъ и Церковь», печатавшаяся въ «Воскресномъ Чтеніи» за 1931 г.
[3] Лѣствица. Слово 28, 42.
[4] На это обратилъ свое вниманіе Митрополитъ Московскій Филаретъ. См. «Голосъ Святителя Филарета въ защиту церковнаго пѣнія». Богослов. Вѣстн. Москва, 1912 г. III, стр. 613 и слѣд.
[5] Москва, 1909.
[6] Тамъ же, стр. 17.
[7] Мелодія эта указана въ Львовскихъ Ирмологахъ для сѣдальновъ 3-го гласа недѣли утра: «Христосъ отъ мертвыхъ воста», гдѣ она имѣетъ тоже свои особенности: концы строкъ сокращены нѣколько (по изданію 1709 г., л. 48 об.). «Лаврская» редакція болѣе полная и строгая. Львовскій ближе изъ Лаврской редакціи.
[8] Напомнимъ нѣсколько заглавій этихъ прекрасныхъ сказаній: «Гора», — «Скоморохъ Памфалонъ», — «Амалонскій злодѣй».
Источникъ: «Православный Путь». Церковно-богословско-философскій Ежегодникъ. Приложеніе къ журналу «Православная Русь» [за 1976 годъ]. — Jordanville: Типографія преп. Іова Почаевскаго. Holy Trinity Monastery, 1976. — С. 41–54.